
Страна: Россия
С самого раннего детства я тянулась к волшебному миру книг. Мне было интересно, как они устроены, как шуршат страницы под рукой. Я всегда тяготела к их созданию, так или иначе. И вот маленькая девочка из далёкой Сибири уже в восемь лет рисовала на листах в клеточку причудливых зверей и совсем наивно, по-детски, писала сказки.
Теперь я Кандидат филологических наук, доцент кафедры Иностранных языков, преподаватель университета, филолог и просто мама двоих замечательных деток. Так случилось, что я — мама недоношенного малыша. И я знаю не понаслышке, что такое преждевременные роды и как выглядят маловесные дети. А ещё я знаю, что недоношенные детки особенные! Так родилась книга «Дети пахнут раем».
Country: Russia
From early childhood I was drawn to the magical world of books. It was a good game to watch how they are arranged, how the pages rustle at hand. I’ve always gravitated towards working on books…
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Foreign languages, university lecturer, philologist and just a mother of two wonderful kids. It so happened that I’m a mother of a premature baby. I know what preterm birth is and what small, premature babies look like. I also know, premature babies are special. This is how the book «Children smell like heaven» was born.
Отрывок из произведения «Дети пахнут раем»
Áдаму и моей дорогой доченьке, а также работникам Отделения Реанимации для недоношенных детей – тем Неравнодушным и Великим людям – Профессионалам своего дела, которые подарили жизнь нашему ребенку посвящается…
ОТ АВТОРА
Со страниц этой книги я хотела бы обратиться к родителям недоношенных деток, их родственникам и не только. Миллионы деток во всем мире рождаются «не в срок».
Я хочу «пустить» вас в историю своей семьи. Это правдивая, невыдуманная история о моем недоношенном ребенке – тема, которую обычно обходят стороной и неохотно разглашают, ее просто не принято обсуждать в нашем обществе.
ПРОЛОГ
Каждый раз мне снится один и тот же сон. Я иду по фиолетовому лютиковому полю в белом летнем платье, которое струится по телу, обтягивая округлый животик. В лучах солнца играют веснушки на лице, солнечные блики бегают по платью, распущенные, каштановые волосы развеваются на ветру длинными локонами. Свежий воздух дурманит, а запах луговых цветов манит. Счастьем пропитано все вокруг. Но самое главное счастье – во мне, я – беременна…
ЧАСТЬ I. МОЯ РЕАНИМАЦИЯ
ЗНАКОМСТВО
Я никогда не забуду тот день. Мимо проносились серые и угрюмые деревья. Куда-то бежали безликие люди − каждый по своим делам. В салоне машины стояла звенящая тишина. Только я и муж. В голове роем проносились тысячи вопросов: куда мы едем? зачем? почему я здесь? и где мой ребенок?
Перед глазами появился шлагбаум. Мы въехали на территорию ГорБольницы. Потом шли длинные улочки, разветвляющиеся налево и направо, и вот перед нами это здание – Отделение для недоношенных детей.
После долгих поисков угла наклона, при котором было относительно небольно двигаться, кое-как я смогла выйти из машины. Все тело безжалостно болело единой послеоперационной раной.
В памяти – обрывки событий: 11 апреля. Роды в 29 недель. Экстренное кесарево, двухчасовая операция, большая потеря крови. Девочка – 1280 грамм… Но больше всего болела душа, а дикий животный страх порождал только одну мысль:
«Успели! Но что же теперь делать? И что я там увижу? Что меня вообще ждет в этом неприметном двухэтажном здании – отделении для недоношенных детей? Это какой-то кошмарный сон…»
− Нюся, приехали. Сейчас я тебе помогу выйти, − прозвучал голос мужа, такой мужественный и уверенный − он словно вернул меня в реальность. Сосредоточившись и собрав все имеющиеся силы, я начала вглядываться через лобовое стекло в очертания незнакомого здания, вид которого при первой нашей встрече ввел меня в оцепенение. Заметно древняя постройка из старого, местами выцветшего, красного кирпича. Ржавый, покосившийся полукруглый навес над входом, как будто бы предупреждал: «Оставь надежду всяк сюда входящий!» И эта аллюзия отсылала только к одной мысли: это был, словно ад. Да, именно к этой мысли, но никак ни к тому, что перед нами могло быть современное многофункциональное здание Отделения Недоношенных детей! Где мой ребенок? Хочу его забрать… Страх сковывал конечности. Идти было невмоготу. Но шаг за шагом я стоически преодолевала короткий путь от машины до кабинета заведующего отделением этого мрачного с виду здания. Со временем я научилась не обращать внимания на обшарпанные стены и допотопное оборудование, так как главным было то трепетное отношение, с которым работали врачи и медсестры этого Отделения. Впоследствии все эти люди стали мне невероятно близкими. Они, каждый по отдельности и все вместе, ежедневно делали все возможное, чтобы наш ребенок оставался жить. Именно «оставался жить», потому что констатировать происходящее можно было только сегодняшним днем, а до завтрашнего – надо было в прямом смысле слова «дожить».
Подходя к зданию детского отделения все ближе, обратила внимание на стаю птиц – воронов. Всем известно, что в русской традиции Ворон имеет глубокую мифологическую семантику и считается Вестником зла; часто описывается в сказках, древних легендах и мифах. Принято полагать, что кораллово-черное оперение этой птицы олицетворяет собой дым и огонь, а ее символика означает парение между жизнью и смертью. В обычной жизни люди и вовсе называют Ворона предвестником смерти.
Они гордо прохаживались по покатому склону крыши и заглядывали своими зоркими, любопытными глазами, как будто тебе прямо в душу, пытаясь увидеть в ней глубинные страхи. В тот момент мы только начинали свой путь − длинный путь − и тогда совсем еще не знали, что нас ждет впереди.
Я шла дальше, невольно ощущая на себе эти цепкие, молчаливые взгляды птиц, от которых становилось не по себе. Каждое движение давалось с трудом, приходилось семенить мелкими шажками (…).
На пороге с суровым видом нас встретил Заведующий отделением. Это был высокий мужчина с серьезным взглядом и проникновенными глубокими глазами. Они, казалось, видели многое − и жизнь, и смерть одновременно − только не могли об этом рассказать. Глаза, которые готовы были помочь, но не могли при этом ничего пообещать.
Мы вошли в отделение. Маска на голову, маска на лицо, бахилы, халат − обмундирование, словно для прохода в секретную лабораторию. Заведующий повел нас по коридору Отделения − по ходу движения, по левой стороне были небольшие палаты с кувезами, в которых лежали дети. Нас провели в палату, где лежала наша девочка, и указали в сторону «нашего инкубатора».
Я подошла к огромному прозрачному кувезу, который был, как огромный инопланетный корабль: весь в трубочках и мигающих приборах. И в этой чужеродной махине лежало такое маленькое тельце, мой родной комочек, наш ребенок. Малышка еще не успела появиться на свет, но уже так отчаянно вынуждена была бороться за свою жизнь.
Нет ничего страшнее − видеть своего ребенка в реанимации…
Вытянутые маленькие ножки и ручки послушно лежали вдоль тела; головка была одета в аккуратную белую шапочку; на личике – маска, от которой, плотно опутывая моего ребенка, тянулась длинная трубка, похожая на руку-щупальце, Это был ИВЛ или Аппарат искусственной вентиляции легких, что даже звучало страшно. Страшно было и в действительности.
«Кровоизлияние в мозг первой / второй степени… открытое сердечное, овальное окно… послеродовой дистресс-синдром… глубокая недоношенность… неготовность легких, а также других систем к самостоятельному жизнеобеспечению… поймите, мы ничего не можем обещать… надо постараться жить одним днем».
Отрывочно и туманно, как будто во сне, до меня доносились слова Заведующего отделением – они звучали страшным приговором для нас, как для родителей. В этот момент совсем незнакомый человек в белом казался мне Богом, в руках которого была хрупкая жизнь нашего с мужем ребенка. Если бы меня тогда спросили, что бы я готова была отдать взамен ее здоровья, я бы не колеблясь, ответила, что готова отдать ВСЕ – даже свою жизнь в придачу.
Были еще какие-то разговоры между супругом и Заведующим, но в моей памяти они не сохранились. Помню, как мы прощались. Заведующий как-то невзначай спросил нас у самой двери:
– У вас есть еще дети?
Мы с мужем переглянулись и тут же ответили в унисон:
– Да.
Я добавила:
– Сын, два годика.
– Это хорошо, очень хорошо! – отметил Заведующий.
В тот момент я поняла всю чрезвычайность и без того плачевного положения (…).
Жизнь – такая хрупкая материя, пришло мне тогда в голову.
(…)
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Общаясь с малышкой через побитое временем оргстекло кувеза, я верила и знала, что она меня непременно слышит.
Я молча стояла и наблюдала, как к нашему кувезу подходили медсестры. Предварительно обработав руки, они просовывали их в окошки и делали необходимые манипуляции: меняли памперс, вводили лекарство или измеряли температуру (…).
Сама я боялась запускать к ней руки в кувез, да у меня и мыслей таких не было. Для меня ее кувез был чем-то неприкосновенным, что защищало ее от враждебного внешнего мира с его ярким, солнечным светом, громким шумом, и, конечно, многочисленными инфекциями, к которым такой ослабленный организм был физически не готов. Даже чтобы просто зайти в палату и постоять у кувеза, мною каждый раз тщательно вымывались руки – вначале специальным мылом, затем уже сухие руки обрабатывались антисептической жидкостью. И только после этого можно было подойти к своему ребенку, которого отделяло это побитое микротрещинами, «паутинное» оргстекло.
Вообще, надо отдать должное французскому акушеру Стефану Тарнье (Stephane E. Tarnier), которому впервые в 1878 г. пришла гениальная мысль использовать для выхаживания детей коробку-инкубатор для цыплят, видоизменив и модифицировав ее под свои нужды. Так появилось слово «кувез», произошедшее от франц. слова «couveuse», что в переводе означает «наседка» (здесь, конечно, идет аналогия с курицей-наседкой, высиживающей своих птенцов).
А вот идея обогреваемого кувеза принадлежит уже его коллеге, врачу Пьеру Будину (Pierre-Constant Budin), который изобрел такой аппарат спустя два года. Однако он не остался в истории, так как всемирно известным неонатологом, использовавшим такие кувезы, считается его ученик – Мартин Куни (Martin A. Couneу).
Эта досадная несправедливость произошла потому, что в 1896 г. доктор М. Куни умудрился продемонстрировать кувезы с живыми детьми внутри (детей он «одолжил» у неблагополучных семей для выхаживания) на Всемирной выставке в Берлине, затем в Нью-Йорке и многих штатах США. За 39 лет существования такого необычного «живого аттракциона» в разных городах Мартином было экспонировано более 5000 недоношенных детей. Но в то же время спасены были тысячи маленьких жизней. А огромная сумма денег, вырученная за это небывалое шоу, при всем уважении к нему, пошла на развитие неонтологии.
Есть мнение, однако, что одни считали М. Куни аспирантом знаменитого французского педиатра П. Будина, другие – проходимцем, шоуменом без докторской степени и медицинского образования, который якобы подсмотрел свою идею выставки. Тогда как истинным изобретателем инкубатора является французский медик Александр Лайон (Alexandre Lion), изготовивший его в 1891 г.
Но это изобретение, так же как и детище П. Будина, не заинтересовало медицинские учреждения того времени, в том числе и по религиозным соображениям. И тогда А. Лайон решил провести рекламную акцию и показать несколько инкубаторов на местной ярмарке. Первая стеклянная модель имела небывалое устройство и функционирование для ХIХ века: для обогрева применялась теплая вода; температуру контролировал электрический термометр, а на случай колебаний температуры имелась система вентиляции и сигнализации. Публика была в восторге. Выстраивались длинные очереди из посетителей, желающих увидеть небывалое зрелище – настоящие, живые недоношенные младенцы в «стеклянных ящиках».
Со временем окрепших детей возвращали родителям, а их место занимали новые недоношенные малыши. Собранные деньги за несколько месяцев работы ярмарки с лихвой покрыли оплату услуг медсестер-сиделок и аренду павильона. Удивительно, что спустя только 15 лет изобретение А. Лайона получило наконец мировое признание в медицинских кругах [Климович]. Так, повсеместно стали массово закупать его инкубаторы для выхаживания недоношенных деток – прототипы современных, многофункциональных кувезов нашего времени.

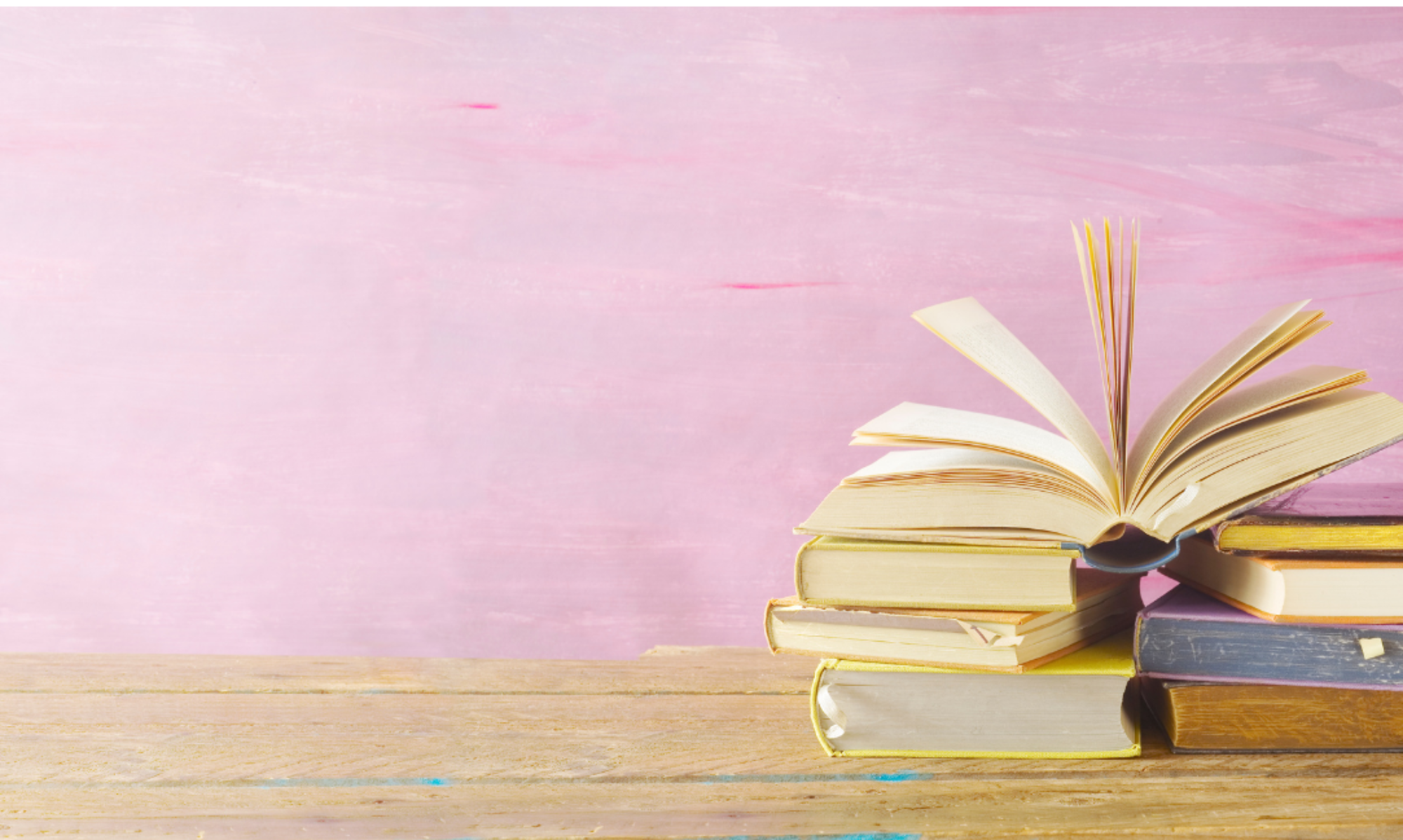

 (4 оценок, среднее: 4,50 из 5)
(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)